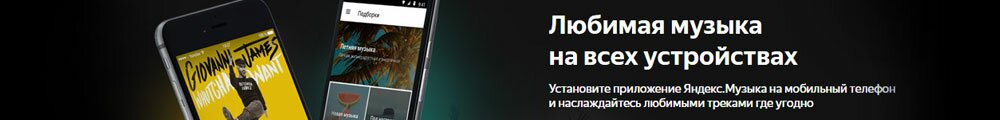Горестная история, описанная Валентином Распутиным в «Прощании с Матёрой», в очередной раз повторилась при заполнении ложа Богучанской ГЭС.
Людей переселили с насиженных мест: кого по доброму согласию, а кого по злому несогласию. В несогласии многое намешалось: от извечного чалдонского упрямства, от привычки к вольно-таёжной жизни, где сам себе хозяин и чёрт мне не брат, — до корысти и калькуляций, мол, недодали, зажилили, хочу больше.
И вот же ещё беда какая — ГЭС начали строить ещё в 1980-е годы.
Приостанавливали, возобновляли, снова приостанавливали. Всё это время людей переселяли. В основном, по Красноярскому краю (большая часть водохранилища находится под его администрацией). Особых проблем сначала не было. Переселенцам отстраивали новые посёлки с практически старыми названиями: Новая Кежма, Новое Болтурино и т. д. Всего выехали на первом этапе что-то около восьми тысяч человек из двенадцати с лишком.
В 1990-е совсем было остановили стройку, возобновили только в 2008 году. С этого времени как-то ушёл в тень вариант обустройства в сельской местности, для жизни предлагались только города. А в 2012 году, буквально накануне затопления ложа, началось спешное выселение 1700 жителей посёлков Кеуль и Невон, что в Иркутской области. И тоже в город. Иркутские власти спохватились только в самый последний момент и начали обдумывать и узаконивать региональными актами варианты обустройства в сельской местности.
Безвариантность — одна из главных и самых обидных недодумок властей.
Только городские квартиры, иного не дано. Может, кто-то и мечтал жить в городе. Но в основном эти люди — сельские, выросшие при собственном огороде и при мало-мальском, но собственном, кормящем семью подворье. Им бы бревенчатый домик с земельным участком, а их чохом запихивали в казённую жизнь, в коммунальные удобства, в панельные дома с универсальным бытом. Чуть до бунтов не дошло.
Конечно, время сглаживает и нивелирует все проблемы. Находится работа для потомков бывших таёжников: и на самой ГЭС, и в городе Кодинске, где затевается строительство завода по производству алюминия. И вокруг, в сельской местности есть куда приложить силы и умения: промышленные рабочие хотят кушать и снабжать их продовольствием — благое и выгодное дело. Не случайность, что в Богучанском районе живёт и работает «весёлый молочник», обрусевший американец и большой оптимист Джастас Уолкер, кормящий со своего подворья немало людей и кормящийся от них сам с семьёй.
Ещё проблема — смена экологической составляющей.
Жили у реки — теперь придётся жить у озера. Ловили для пропитания тайменя и сига — на замену пришли щука и окунь, лещ и даже карась, которых раньше за рыбу не считали. Диалог из старых времён: «Рыба есть?» «Рыбы нет. Щука есть».
Водохранилище бурно цветёт и пахнет — разлагаются органические остатки. Пройдёт несколько лет, пока вода станет чистой. Климат у озера изменится: лето будет холодным, осень — тёплой. А в нижнем бьефе, за плотиной, ещё и туманной — из-за никогда не замерзающей полыньи… Закономерен вопрос: стоит ли игра свеч?
Определённого и окончательного ответа нет и не будет. Человек добывает энергию. Разными способами. Ни один из них не воздействует благотворно на природу. Подножия ветровых станций усеяны трупами птиц — они не умеют облетать страшные лопасти. Газовая и нефтяная добыча уничтожают тундру. Угольные разрезы уродуют землю.
Остаётся уповать, что, обустраивая под себя антропосферу, человек это делает в необъятной Сибири.
Вот говорят, что Кузбасс зияет дырами в земле. Что есть, то есть. Местами. Но в том же Кузбассе есть волшебные места: Шерегеш, например, или Поднебесные Зубья. И чистейшие реки, подобные Кии и Терсям.
А вот ещё самый грязный город России Норильск. Да, в промышленной зоне некомфортно. Однако отойдите от промзоны всего на несколько километров, хотя бы в Талнах, где сияющие снега, или на озеро Лама, зону отдыха норильчан, рукой подать от города: там спящая тундра — такая ж, как век назад. И Богучанское водохранилище, скажем себе для самоуспокоения, — всего лишь малое пятнышко на сибирской карте. Для сравнения: если в Великобритании площадь полностью нарушенных земель составляет 99 процентов, то в Сибири лишь около пяти.
Есть повод для оптимизма?
Семён Кайгородов Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций