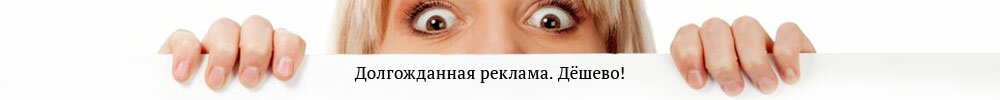В Барнауле, в тамошнем университете, подготовлен к изданию пятитомник «Образ Алтая в русской литературе». Это будет подарком местных филологов 75-летию Алтайского края. Ранее они выпустили полное собрание сочинений Василия Шукшина и это тоже выглядело как подарок — только к 70-летию края. Подарок раз в пятилетку, таким образом, становится традицией.
Филологи решили делать не хрестоматию по, так сказать, истории литературы про Алтай, не публиковать ВСЕ произведения с алтайской тематикой, ибо издание стало бы многотомным, но и не публиковать каких-то авторов в отрывках. Это в чистом виде антология — сборник законченных произведений, посвящённых Алтаю. По возможности небольших.
Хотя принцип, конечно, не исполнен буквально.
Например, нет романа Григория Гребенщикова «Чураевы». Он слишком велик, говорят составители. Но два романа, поменьше объёмом, получили прописку в антологии, это «Горы» Владимира Зазубрина и «Тропы Алтая» Сергея Залыгина.
Зато будет опубликовано несколько рассказов Гребенщикова, кстати сказать, невезучего в плане изданий, — после гражданской войны он оказался в эмиграции, а когда эмигрантов стали печатать, читательский и издательский интерес к нему упал.
Первый том антологии включает в себя произведения, написанные в основном в позапрошлом веке. Чистой литературой, то есть беллетристикой в общепризнанном значении слова, их назвать нельзя. Это путевые, этнографические заметки или «физиологические», как было принято говорить во времена Виссариона Белинского, очерки. Таковы, например, «Полгода в Алтае» Григория Потанина или «Сибирская Швейцария», «Странник на Золотом озере», «На обетованных землях», «В дальних странствиях» Николая Ядринцева.
Да в общем большинство всех старых сочинений про Алтай именно очерки. Даже у незаурядного мастера художественной интриги Вячеслава Шишкова «На Бии» и «Чуйские были» это очерки в чистом виде.
Довольно понятно, что в пятитомник войдёт изрядное число авторов, долгое время числившихся в «антисоветчиках», например, стихи Григория Вяткина (отмечу его стихотворение «Бобырган», уж больно знакомая гора, начинающая близ равнины Семинский хребет, поднимающийся вдоль Катуни). Он будет соседствовать с вполне «нашенским» Робертом Рождественским, с его стихом «Речка Иня», про маленький приточек Катуни.
Интересно будет увидеть в антологии других изрядно подзабытых советских писателей.
Например, Ольгу Берггольц. Знаменитая своими блокадными стихами, она в 1930-е годы начинала как журналист и прозаик. В частности, оказалась не забыта её милая детская повестушка «Пимокаты с Алтайских» — в детстве, помнится, читал.
Большую часть юбилейного 75-летия в Алтайский край входила автономная Горно-Алтайская область. Сейчас это самостоятельный субъект Российской Федерации. Но, разумеется, в литературной истории Горный Алтай остаётся неотъемлемой частью Большого Алтая, включая сюда Степной Алтай, который, собственно говоря, и есть нынешний Алтайский край, а также Рудный Алтай, ставший Казахстаном. Сужу по заголовкам разных авторов: «Уймонская быль», «Сон в Иогаче», «Над озером Ая», «Турачак», «Алтын-Кёль», «Водопад Корбу», — всё это Горный Алтай.
Некоторые вещи, на сторонний взгляд, попали в пятитомник случайно.
Например, брутальный рассказик Михаила Веллера «Конь на один перегон» или совершенно случайный для Ивана Ефремова рассказ «Озеро Горных Духов». В то же время за рамками антологии оказалась знаменательная для своего времени (1970-е годы) повесть «Месяц в Кедрограде» Владимира Чивилихина или алтайские вещи Глеба Горышина, одного из лидеров «молодёжной прозы» 1960-х годов.
На мой вкус, вполне к месту оказались бы главы из трудов великих географов и этнографов, к примеру из книги Петра Чихачёва «Путешествие в Восточный Алтай», заметок об уймонских староверах Василия Вербицкого или путевых заметках тюрколога Василия Радлова. Да вот и Николай Рерих оказался за бортом…
Тем не менее, подготовлено интереснейшее издание. Даже если судить по оглавлению. «Антология» переводится как «сборник цветов». В этом смысле букет получился, пусть и не полный, но всё равно богатый.
Семён Кайгородов